
Сегодня у меня болит нога. Она болит всегда, но когда собирается пойти дождь, ей становится хуже, словно я какой-то живой предсказатель погоды. Ненавижу это.

Картер в Атланте вот уже три недели. Три долгие недели без возможности услышать его голос или увидеть его лицо. Три недели без возможности узнать, что случилось с ним, как у него дела.
Последние три недели были для меня мукой. Черт возьми, не только последние три недели. Каждый день с того Дня Святого Валентина. Нет – даже с еще более раннего времени.
Уход Гейба. Да, вот когда это началось. Гейб и Джини, в один и тот же день, оба попрощались со мной. Джини попрощалась, чтобы уйти к чему-то лучшему. Гейб попрощался, чтобы уйти в неизвестность. Когда он рассказал мне о том, что думает о самоубийстве, я сломалась. Не могла вынести мысли, что человек, который научил меня всему, что я знаю, хочет убить себя. Я знала, что этот разговор когда-нибудь неизбежно закончится, и я не хотела отпускать его. Но было слишком поздно – он уже ушел. Не его разум, но его душа. Он уже позволил ей уйти.
Я справилась с этой двойной потерей единственным способом, который знаю. Я работала вдвое больше, чем обычно. Моего запала хватило очень ненадолго: было такое ощущение, что все, с кем я соприкасаюсь, ведут себя неправильно. Я даже взяла несколько свободных дней и провела их дома, отключив телефон. Я мало что сделала за эти дни. Я подолгу отмокала в ванне – от холодной погоды моей ноге стало хуже. Я сидела в горячей воде и пила водку прямо из бутылки. Я никогда не делала такого прежде: не пила лишь для того, чтобы напиться. Но я нуждалась в том, чтобы отвлечься от всего, и я не знала никакого другого способа достичь этого.
К февралю дела немного наладились. А потом наступил День Святого Валентина.
Мне не приходится заставлять себя воскрешать в памяти события того ужасного вечера. В этом нет нужды; эти образы являются мне во сне поздно ночью и рано утром, отдельными, не связанными друг с другом фрагментами. Тот, который преследует меня чаще всего, конечно, самый худший. Ночь за ночью, снова и снова, я вхожу в третью смотровую и вижу Картера и Люси, каждого в собственной луже крови.
Я не знаю, к кому из них подойти первому.
В конце концов я сначала присаживаюсь на корточки рядом с Картером, потому что он ближе к двери. Он лежит на животе, и я в ужасе переворачиваю его. Он мертв, говорю я себе. Он не может быть мертв, говорю я себе. Я встаю и перехожу к другой стороне кровати, мой костыль и моя нога поскальзываются в крови Люси. Очевидно, я закричала, потому что пришли люди. Я не помню, чтобы кричала.
Я не смогла заниматься Картером. Я попросту не смогла.
Я осталась с Люси. Она пациентка, всего лишь пациентка, говорила я себе вновь и вновь, стараясь дистанцироваться от происходящего. Это не сработало. У меня тряслись руки, когда я интубировала ее. Я поколебалась, перед тем как воспользоваться грудинной пилой.
Только после того, как Люси подняли в операционную, мне удалось выйти наружу. Мне был нужен воздух. В моей жизни было много моментов, когда я хотела иметь возможность бежать. Этим вечером я хотела отбросить костыль и убежать так далеко от приемного, как смогу, подальше от ужаса того, что случилось. Вместо этого у меня начался приступ тошноты, и меня вырвало в мусорный бак.
В моих снах меня преследуют эти образы. Зияющая рана на шее у Люси. Картер, лежащий ничком, так неподвижно. Кровь. Так много крови. Не могу сказать, что у меня слабый желудок, я никогда не была подвержена тошноте; для любого врача это равнозначно смертному приговору, а особенно для врача «скорой помощи». Однако этой ночью, и во все последующие ночи, та кровь, те темно-алые лужи, которые были в каждом кошмаре, будили меня, как толчком, среди простыней, влажных от пота.
И вот теперь Люси мертва, а Картер уже не тот человек, которого, как мне думалось, я знала.
«Покажи нам свои запястья», - сказала я в тот последний раз, когда видела Картера, прежде чем он выбежал прочь из той комнаты. Когда я говорила это, то знала – знала, и всё – что именно туда он ввел себе этот проклятый фентанил. Эбби думала, что он ввел его в предплечье, но она не разглядела отчетливо, так что не была уверена.
Я смотрела на него, пытаясь поговорить с ним глазами так, чтобы никто другой не мог услышать. В запястье, Картер? Туда, верно? Но он не услышал меня. Мое сердце было разбито. В какой-то миг мы соприкоснулись телами, когда он разве что не оттолкнул меня в сторону в стараниях убраться оттуда. В тот миг я поняла, что больше не знаю его.
Выступить против него с нашей общей осведомленностью о происходящем и нашим предложением помочь ему – сделав это прямо здесь, в третьей смотровой, где произошло то нападение. О чем я только думала? Я знаю, что давила на него. Может быть, слишком сильно.
Тем вечером я не один час просидела у стойки регистратуры. Каждый раз, как звонил телефон, у меня падало сердце, когда оказывалось, что это не новости о Картере, а что-то другое. Наконец, много часов спустя, я сдалась. Я взяла пальто и уже направилась к двери, чтобы уйти домой, когда услышала, как зазвонил телефон. За стойкой никого не было, и я поспешила назад, так быстро, как могла, неизвестно почему зная, что это тот самый звонок, которого я ждала всё это время. Затаив дыхание, я услышала спокойный и тихий голос Бентона, и я расслабилась сразу же, едва он сказал, что он в Атланте с Картером.
Облегчение, которое я испытала, прямо-таки затопило меня, как нечто материальное; я практически упала в кресло, и к моим глазам подступили слезы. Я сдернула с носа очки и прикрыла глаза ладонью, прячась, как всегда.
Питер сообщил мне подробности. Картер явился в реабилитационный центр, и Питер собирался остаться еще на несколько часов, а утром улететь обратно в Чикаго.
Картер был спокойным и тихим, сказал он. Побежденным. Сломленным. Я не задавала никаких вопросов. Мне это не было нужно. Одно знание того, что он там, на попечении профессионалов, что он не ушел из Окружной в темноту и неизвестность в одиночестве – это вызвало у меня чувство, что в конце концов всё снова будет в порядке.
Я поехала домой этим вечером и заползла в постель, в полном изнеможении. Где-то около трех часов утра я проснулась, у меня ныла нога. Я автоматически потянулась за флаконом с таблетками в ящике тумбочки. Разумеется, там их не было. Их не было там уже много лет. Раньше, когда таблетки бывали там всегда, когда бы я ни нуждалась в них, мне было так привычно это действие – то, что я могу снять крышечку с флакона, вытряхнуть две таблетки на ладонь и всухую проглотить их в темноте.
Поскольку никаких таблеток, способных унести боль, не было, я перевернулась на бок и ждала долгие минуты, пока мое тело не привыкло к более удобной позе, достаточно удобной, чтобы я смогла снова заснуть. И именно тогда, как раз когда я засыпала, я оказалась лицом к лицу с неприятной истиной: у Картера и меня есть кое-что общее.

Я приехала в Атланту, чтобы повидать Картера.
«Хорошего тебе отпуска, Керри», - сказал мне Марк перед моим отъездом. Никто не спросил, куда я еду. Никто никогда не спрашивал. На сей раз я этому рада. Я не хочу, чтобы хоть кто-то знал.
Никто из нашей больницы, насколько мне известно, не навещал Картера, с тех пор как он уехал в Атланту. Я эгоистично рада этому; я хочу быть первой. Я хочу увидеть его лицо и позволить ему увидеть мое, и дать ему понять, что я беспокоюсь о нем больше, чем все остальные. Что я достаточно беспокоюсь о нем, чтобы прилететь сюда, что я достаточно беспокоюсь о нем, чтобы сказать ему, что не стала думать о нем хуже.
Но моя твердая решимость, весь этот мой план рушатся, когда я прибываю в реабилитационный центр. Они все выглядят похожими, эти места, почти одинаково – нечто наподобие отделения для амбулаторных пациентов в больнице, аккуратное и стерильное, довольно приятно отделанное, но безликое, лишенное индивидуальности. Я думаю о моем собственном доме, полном тепла, и музыки, и книг, и домашних растений. Даже подвал, где Картер жил до прошлого года, такая резкая противоположность этому месту. Я замечаю, что руки у меня холодные и влажные и слегка дрожат.
Я гадаю, как он здесь устроился, привык ли. Мне не приходится гадать долго; я жду в общей комнате, которая обставлена так, чтобы выглядеть как гостиная, и одна из медсестер, одетая не в форму, а в обычную одежду, уже отправилась за Картером.
Я слышу шаги в коридоре и на секунду закрываю глаза, молясь, чтобы мой приезд сюда был правильным поступком.
- Доктор Уивер, - слышу я и открываю глаза.
Картер стоит в дверном проеме, его лицо – маска удивления, как будто он не может поверить, что действительно видит меня здесь.
- Картер, - говорю я и поднимаюсь. Нервозность делает меня неуклюжей, и едва ли не впервые в жизни я берусь за костыль недостаточно крепко, и он выскальзывает у меня из рук. Картер бросается вперед и дотягивается до него одновременно со мной; наши руки сталкиваются, и щеки у меня вспыхивают от смущения. До сих пор я никогда не стыдилась своего костыля, но по какой-то причине здесь и сейчас я чувствую себя уязвимой.
Он отступает назад и осматривает меня сверху донизу.
- Вы хорошо выглядите, доктор Уивер, - говорит он мне. Он сам выглядит так, словно впитывает меня глазами, точно я глоток прохладной воды в пустыне. Я полагаю, это означает, что он рад видеть знакомое лицо.
- Спасибо, - говорю я ему. – Ты тоже, Картер.
Я не лгу. Темные круги, залегшие у него под глазами, когда он покидал Чикаго, теперь исчезли; он набрал немного потерянного веса и выглядит больше похожим на самого себя.
Мы садимся, я – на диван, а Картер – в двухместное кресло напротив меня. Нас разделяет кофейный столик, и воцаряется молчание.
- Тебя огорчает, что я здесь, Картер?
Он отрицательно качает головой.
- Я удивлен, но не огорчен. Никто больше не приезжал сюда. Никто не звонил. Я уже подумал, что все просто забыли обо мне.
Я делаю глубокий вдох и выдыхаю.
- Никто не забыл, Картер. Никто. – И меньше всего я, добавляю я про себя. Картер пребывал в моих мыслях уже целые месяцы, и с тех пор, как он уехал, его присутствие в моем разуме стало повседневным и непоколебимым.
- Как дела в Окружной? – спрашивает он.
- Хорошо, - отвечаю я ему. Я уже собираюсь пошутить, что никто пока еще не умер, но прикусываю язык. Я не очень хорошо умею шутить с людьми, поэтому редко делаю это. Но я отчаянно хочу внести немного непринужденности в беседу. – Здесь, в Атланте, гораздо жарче, чем у нас в Чикаго. Я думаю, у нас будет мягкое лето. Частые дожди и прохладная погода.
Картер кивает и смотрит на свои колени. Он хочет слышать о погоде не более, чем я – говорить о ней.
- Картер, - начинаю я нерешительно, - я приехала сюда, чтобы поговорить с тобой, увидеть тебя. – Мне трудно подыскать верные слова для того, что я хочу сообщить ему. Он смотрит на меня, выжидая. Это глупо, но сейчас мне хочется, чтобы я заранее проиграла в голове то, что намеревалась сказать ему, и проиграла не один раз, вместо того, чтобы ограничиться заказом билета на самолет. Я ощущаю себя неподготовленной.
- Вы не хотите, чтобы я возвращался в Окружную? – спрашивает он наконец, и я яростно мотаю головой.
- Почему ты так подумал? – спрашиваю я в изумлении.
- Я основывался на том, в каком положении мы всё оставили. Когда я уехал, - говорит он.
- Картер, причина, по которой мы настаивали, чтобы ты поехал сюда – это чтобы ты мог вернуться в Окружную. У нас не было никакой другой цели. Мы не хотим потерять тебя. Ни как врача. Ни как друга. – Я говорю это искренне.
Я вспоминаю тот вечер, когда его ранили, думая снова и снова, что мы не должны – не можем – потерять его. Я не хотела потерять ни одного из них, но даже когда мы сделали для них всё, что могли, Люси умерла, а Картер кончил тем, что очутился здесь.
- Так вы поэтому приехали? Для того, чтобы передать мне это? – спрашивает он, слегка подозрительным тоном.
- Я также хотела узнать, как у тебя дела, - говорю я.
- Вы могли позвонить по телефону.
- Да, могла.
Но вы этого не сделали, говорят мне его глаза. Вместо этого вы приехали.
- Как всё идет… твое лечение? – спрашиваю я. В моей ноге пульсирует боль, несомненно, от влажности. Чего бы я не сделала ради хоть какого-нибудь обезболивающего.
Картер опускает глаза.
- Всё в порядке, - говорит он. – Как забавно – едва обезболивающие полностью выводятся из твоего организма, ты начинаешь испытывать другую разновидность боли.
Он снова поднимает взгляд на меня, с выражением, означающим, что я не понимаю. Он продолжает, до того как я успеваю поправить его:
- Знаете, то, что привело меня сюда – это нечто большее, чем пристрастие к наркотикам.
- Люси? – спрашиваю я.
- Вина из-за Люси, - отвечает он мне.
- Тебе не за что считать себя виновным.
- Вы не знаете. Вы не знаете, как я себя вел с ней в тот день. – Он не обличает себя, а лишь излагает факты. – Я выжил, а она нет.
- То, как ты вел себя с ней в тот день, не было причиной ее смерти, Картер, - напоминаю я ему. - Не ты держал тот нож.
- Если бы я повнимательнее прислушался к ней, когда она докладывала мне о Поле, - говорит он тихо. – Не оборвал бы ее так сразу… я мог бы понять, в чем дело, или я мог бы предотвратить то, что произошло. – Он отводит взгляд в сторону, явно переживая заново тот день, те слова, которыми они с Люси обменивались. Внезапно он смотрит на меня. – Это ведь вы нашли нас.
Я киваю. Я не хочу туда. Я не хочу.
- Мне рассказал об этом доктор Бентон, - говорит он. – Это должно было быть… - он умолкает, как будто стараясь вообразить, на что это было похоже – что я увидела, распахнув дверь в третью смотровую.
Я вижу их, словно всё это происходит заново. Их тела на полу. В груди у меня вскипает паника. Я смотрю на Картера сейчас, вспоминая его-тогдашнего, глаза у него были закрыты, когда я перевернула его, кровь запятнала рубашку на спине и собралась в лужу на полу вокруг него.
- Доктор Уивер? – спрашивает он негромко. Он хочет услышать это. Он хочет знать.
- Оглядываясь назад, - начинаю я медленно, - должна сказать, что мне потребовалась вечность, чтобы добраться туда. Я зашла в ординаторскую, потом поговорила с пациентом, потом с доктором Чен. Я никак не могла узнать, что за той дверью, но по-прежнему хочу, чтобы я добралась туда пораньше. Чтобы кто-нибудь добрался туда пораньше. – Я откашливаюсь, прочищая горло, стараясь увести разговор от моих переживаний. – Я позвала на помощь. Мы отвезли тебя и Люси в травму и начали работать над вами.
Картер всегда был проницательным.
- Вы тоже чувствуете вину? – спрашивает он меня всё так же тихо.
Я осторожно киваю, у меня напрягается подбородок от сосредоточенности на воспоминаниях.
- Если бы я приехала в приемное раньше, вечеринка не была бы такой шумной. Кто-нибудь услышал бы, как кричит Люси. Или ты.
- Но вы не приехали туда раньше, - говорит он мне. – Вы не можете постоянно следить за всем и всеми.
Я поднимаю на него глаза, и у меня в груди образуется ком. Картер задел меня за живое, но вместо того, чтобы испытывать гнев, я испытываю страх. Нет, я не могу следить за всем и всеми, не более, чем я могу самолично управлять всем, но это соображение никогда не удерживало меня от того, чтобы стараться это делать. И ничто не вызывает у меня большей ненависти, чем собственная неудача – в этом или в чем угодно другом.
Никто не знает этой части меня. Никто, говорю я себе мысленно, вообще меня не знает.
- Вы должны были быть в ужасе, - шепчет он через разделяющее нас пространство, и мне как-то удается расслышать его.
Я уже готова резко возразить, что никогда не бываю в ужасе, когда вдруг останавливаюсь. Он прав: я была в ужасе тем вечером. Откуда он знает? Откуда? Слезы наворачиваются мне на глаза, и я в душе проклинаю их, проклинаю свою слабость, потому что я бессильна сдержать эти слезы. Только несколько раз за всю мою жизнь я плакала в чьем-то присутствии.
Мои слезы вызывают у Картера тревогу, и он быстро пересекает комнату и садится рядом со мной. Я в равной мере тронута и испугана его близостью; когда он дотрагивается до моей руки, я трясу головой, и он подается назад.
Я не делаю никакого движения вытереть слезы.
- Я приехала сюда ради тебя, а не ради того, чтобы сломаться самой, - говорю я ему.
- Я не думаю, что несколько слезинок являются надломом, - отвечает он с кривой улыбкой. – Если бы это было так, то тогда я, получается, находился в состоянии одного постоянного и непрерывного надлома с тех пор, как попал сюда.
Я улыбаюсь в ответ.
В этот момент я осознаю, что всё в порядке. Я заплакала, и он увидел это, и конец света не наступил. Он не стал думать обо мне по-другому. В этом есть ирония, поскольку причина, по которой я приехала сюда – это сказать ему то же самое.
- Доктор Уивер, - говорит он, и я качаю головой. Теперь мы установили контакт, и формальности ни к чему.
- Керри, - поправляю я его.
- Керри, - он пробует на вкус это слово, мое имя. – Почему вы приехали сюда?
- Я хотела, чтобы ты знал, что я поддерживаю тебя, Картер. То, что ты делаешь. У тебя есть поддержка от всех в Окружной, но я хочу, чтобы ты знал, что я поддерживаю тебя по-особенному.
Он смотрит на меня, и его молчание – это вопрос. Он уже заподозрил, что в моем визите есть еще что-то.
Я делаю вдох, а потом кладу ладонь себе на ногу.
- Вот это, - говорю я, - еще одна причина, по которой я приехала.
Картер выглядит сбитым с толку.
- Я не понимаю…
- Я никогда не рассказывала тебе, что случилось с моей ногой. – По правде говоря, я едва ли вообще рассказывала это кому-либо, но этого я не добавляю.
- Я не нуждаюсь в том, чтобы это знать, - откликается он, покачав головой, и я знаю, что он действительно подразумевает это, но, так или иначе, я нуждаюсь в том, чтобы рассказать ему.
- Это произошло, когда я училась в колледже, - начинаю я. Воспоминания возвращаются, нахлынув потоком. Мне нужно свести рассказ к минимуму, или я опять заплачу. – Кое-кто ранил меня. Как Пол Собрики ранил тебя и Люси. На меня напали, когда я этого не ждала, со стороны, в которую я не смотрела. Я понятия не имела, что это произойдет.
У Картера расширяются глаза.
- Вас… ударили ножом?
Я не отвечаю ему. У меня остались смутные воспоминания о бригаде травматологов в приемном отделении, куда «скорая» привезла меня, истерзанную и окровавленную. Первое сознательное воспоминание, которое у меня есть – это как я очнулась в палате интенсивной терапии после операции, с дыхательной трубкой в горле и жгучей болью, пронизывающей ногу. Один из хирургов, женщина, очень мягко побеседовала со мной. Она объяснила, почему я не могу разговаривать, и что в моей ноге там, где была перерезана артерия, повреждены нервы, и что я, возможно, вообще не смогу ходить снова из-за раздробленной бедренной кости; объяснила, как мне повезло, что я жива. Она объяснила всё, за исключением одной-единственной вещи, узнать которую мне было нужнее всего – почему это случилось?
Шрамы от этого нападения покрывают всё мое тело, но никто, кроме меня, не может их увидеть. Они давно зажили и побледнели, превратившись в розовые линии, пересекающие мою ногу, мой живот, мою грудь, мою шею. Я чувствую, как они горят у меня под одеждой, пока Картер смотрит на меня, его глаза такие пытливые, старающиеся понять.
- Я понимаю, Картер, то, что произошло с тобой. Я всегда понимала. И видеть, как ты скатываешься всё ниже… Мне следовало рассказать тебе, - шепчу я.
Картер трясет головой.
- Вы никогда не обязаны были ничего мне рассказывать. Вы не были должны мне объяснение тогда, и сейчас тоже.
Есть еще кое-что, что нужно сообщить ему.
- У меня неизлечимые повреждения нервной ткани. И после трех последовательных операций фрагменты моей бедренной кости были восстановлены. – Он слушает, ждет. Я знаю, что сказать после этого, но я не знаю, смогу ли.
Он снова кладет ладонь поверх моей, и на этот раз я его не останавливаю.
- Еще пять лет назад я принимала обезболивающие каждый день, - говорю я ему. – Я к ним привыкла, у меня была зависимость.
Я слышу, как он резко втягивает в себя воздух; я знаю, что это не то, что он ожидал услышать.
- Прописанные, конечно, - говорю я ему, зная, что он поймет. Эта хорошая зависимость, особенно для того, кто привык к обезболивающим из-за травмы и знает, как заставить врача выписать их. Всё, что мне было нужно – это извлечь на свет божий мои медицинские записи, и врачи смотрели на меня глазами, полными жалости, и доставали бланки для рецептов.
- Я хотела приехать сюда и встретиться с тобой, Картер, потому что я знаю, через что ты прошел. Я понимаю.
- Вы знали, что надо посмотреть на мои запястья, - говорит он, так тихо, что я едва слышу его.
Я киваю ему.
- Ты один из лучших врачей, с которыми я когда-либо работала, Картер. И я знаю, что ты сумеешь преодолеть это. – Теперь я говорю твердо, уверенная в своих словах.
- В настоящий момент я не врач, - вздыхает он. – Просто наркоман.
- А я в настоящий момент не твой начальник или коллега. Просто твой друг.
Теперь его очередь заплакать, и он делает это так беззвучно. Его тело неподвижно, и мышцы лица едва двигаются, пока слезы стекают у него по щекам. Я охвачена неожиданной потребностью обнять его, привлечь к себе, но я колеблюсь; я не слишком хорошо умею утешать прикосновениями. Я лишь переворачиваю свою ладонь и беру его за руку.
Мы сидим в молчании.
Наконец, после долгих минут, он закрывает глаза, слезы всё еще не высохли у него на лице, и прислоняется ко мне, положив голову мне на грудь. Я неуверенно обхватываю его одной рукой и обнаруживаю, что это не так странно, как я ожидала; наоборот, это ощущается естественным.
И тогда я чувствую нечто необыкновенное и знаменательное. Я не могу это объяснить или даже вполне понять. Это чувство исцеления. Для Картера, и для меня.
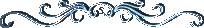

Перейти ко ВТОРОЙ ГЛАВЕ

